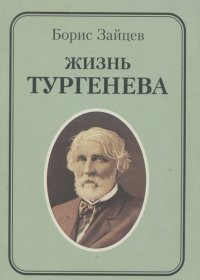
В литературно-критическом и публицистическом наследии Б.Зайцева «этюдам к жизнеописанию»[1] Тургенева, статьям о его произведениях принадлежит видное место. В эмиграции Зайцев «активно изучал документальную литературу о Тургеневе, пропуская все полученные факты сквозь призму уже сложившегося восприятия»[2], главным творческим результатом чего стала романизированная биография «Жизнь Тургенева» (1929 – 1931).
Эта книга позднее вошла в цикл его писательских биографий («Жуковский», «Чехов»[3]), которые, по наблюдениям одного из первых рецензентов, создавались «с интуитивным проникновением в жизненные судьбы любимых им авторов и с повышенным вниманием к религиозным темам их творчества»[4]. В работе о Тургеневе «важен и интересен не образ… известного Тургенева – западника, либерала, позитивиста и вдумчивого наблюдателя быстрых изменений в обществе, но иной, как бы ночной образ Тургенева с его страхами, страстями, печалями и причудами»[5].
В «Жизни Тургенева» примечательны комплексное освещение психологических, социальных, религиозных сторон натуры художника, обращение к разноприродным импульсам искусства. Варьируя ракурсы портретирования творческой личности, автор в начальных главах («Колыбель», «Отрок и юноша») постигает сплетение явных и скрытых влияний на будущее художническое мирочувствие Тургенева: это и пространственные образы Орловской губернии, и атмосфера Спасского, далекая от семейного уюта, «поэзии быта православного», и наследственные, родовые корни, отмеченные присутствием «рокового характера Эроса» и одновременно отчуждением от внешнего мира – в «далеком холоде и парадности Сергея Николаевича, причудливой карамазовщине Варвары Петровны»[6]. Это и первые опыты знакомства Тургенева с «книжной» поэзией, повлекшие за собой то, что «пропал в нем помещик, начался поэт».
Широко понимая религиозную составляющую личности художника, Зайцев различает ее истоки еще в юношеских прозрениях тайны Эроса сквозь образ «деревенской богини» в Спасском, в интуитивном движении к бытию «на почве “высшего”: томлений по красоте, истине, пытания загадок мира», в тургеневском байронизме, затронувшем глубинные струны его внутренней жизни и положившем начало творческому самовыражению: «В начале 1837 года Тургенев представил… первую свою поэму «Стено» – вещь полудетскую, подражательную, под «Манфреда». Со стороны артистической ничто, но как свидетельство о молодом Тургеневе важно. Разумеется, Байрон был модой. И Пушкин, и Лермонтов через него прошли. Все же душевной червоточине Тургенева, сказавшейся уж очень рано, байроновский звук подошел, и получил у него свой оттенок. Он подражал, – но не случайно выбрал предмет подражания».
Формирование личности художника передается Зайцевым не столько в виде поступательного процесса, сколько в призме внезапных вспышек, озарений, встреч и разрывов. Судьбоносными для Тургенева стала мимолетные встречи с Пушкиным в доме Плетнева («как молния сверкнул ему Пушкин») и зале Энгельгардта, приобщившие входившего в литературу юношу к стремительной, просветляющей, но и трагической в своих глубинах стихии творчества. Предметная детализация, жестовая динамика этих эпизодов («Остались в памяти живые глаза, столь быстрые! – да белые зубы... За несколько дней до дуэли… Пушкин стоял у двери, скрестив руки, хмурый и мрачный. Тургенев кружил, как влюбленный, рассматривал и так и этак. На этот раз запомнил все: и темные раздраженные глаза, и высокий лоб, и едва заметные брови, и курчавые волосы, и бакенбарды, и африканские губы с крупными белыми зубами») выводят художника-биографа к емким обобщениям о психологически несхожих, но имеющих внутреннее созвучие типах творческого мировидения: «Ничего не было общего в темпераменте, складе души у изящного, слегка уже отравленного юноши с этим действительно страстным «африканцем», которому через несколько дней предстояло – корчась на снегу с простреленным животом – целиться в противника. (Представить только себе Тургенева на дуэли!) Но в слове, в духе искусства были они родственны – два русских аполлинических художника».
Встречи и разрывы начинающего художника с миром показаны у Зайцева в таинственном взаимном наложении. Открытию горизонтов мировой культуры предшествовало у Тургенева невольное прикосновение к ужасающей, подрывающей земные надежды реальности смерти во время пожара на корабле по пути в Германию: «Он впервые встретился со смертью. Принять, понять ее никогда и позже не мог. Она была для него врагом, ужасом, бессмыслицей. Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово – это острое чувство бытия, верный спутник избранности». Вдохновляющее прикосновение к богатству европейской мысли, побуждавшее в кипенье дружеских берлинских посиделок «до утра кричать о Гегеле», знакомство с Италией, «несмущаемым веяньем поэзии, терпким, живоносным воздухом Рима», пешее путешествие по Швейцарии – все эти встречи и открытия исподволь соседствовали с усугубляющимся драматизмом отдаления от матери и в определенной мере от всего окружения, что находит отражение в его психологическом портрете «берлинско-итальянской» поры: «Среди тургеневских червоточин была одна, очень его мучившая – он заметил ее за собою еще в детстве: неполная правдивость. Живое ли воображение, желание ли «блеснуть», «выказаться», текучесть ли и переменчивость самой натуры, но он иногда бывал лжив. Это отдаляло от него многих… Создавало впечатление позера и человека, на которого нельзя положиться (на него и действительно нельзя было положиться! Но он и действительно обладал даром прельщения)… Портрет (редчайший) начала сороковых годов дает Тургенева с довольно «роковым» поворотом головы, взором не без вызова, с романтическими кольцами кудрей – очень красивый и замечательный молодой человек, но уж, конечно, не без позы». В череде его многочисленных отъездов и возвращений пульсировали тайные ритмы времени, возвещавшие порой о безвозвратных переменах и потерях: «Он возвратился из парижского «пленения» более милым и очаровательным, чем когда-либо. Его знали уже и ценили в России, как писателя, автора «Записок охотника». Ему шел тридцать второй год. В темных, густых волосах, несколько вьющихся, появилась проседь. Прекрасные задумчивые глаза… Он приехал из Петербурга, когда Варвара Петровна лежала уже в земле Донского монастыря».
Вглядываясь в перипетии личной, светской, литературной жизни своего героя, Зайцев останавливается на парадоксальном соотношении явленного и сокровенного в его личности, размышляет о том, насколько «внешний его облик довольно долго еще не совпадает с тем, чем надлежало ему быть в действительности». Светские впечатления 40-х гг., история с «орловской Дунечкой», от «неяркого образа» которой в творческой памяти Тургенева остается «что-то безответное, скромно-покорное», общение с Татьяной Бакуниной – этот «другой роман, смутно-интеллектуальный, рудински-разговорный» – откристаллизовывались в «частицу поэзии», отчасти оборачивались своеобразным «жизнетворчеством», когда «Тургенев играл как бы собственную пьесу». «Поэтически-эротический трепет, в котором почти постоянно Тургенев жил» находил выражение в его поэзии, а впоследствии в психологической атмосфере повестей и романов. В ранних стихах, «исходящих, разумеется, из Пушкина», он «бывает холодноват, язвителен»; ироническое освещение обернувшейся семейной идиллией романтической любви в поэме «Параша» исподволь выдает «бесплодность, испепеленность» его сердца, его «горестно-мудрую, но последовательную черту: одиночество, “не-семейственность”» – и вместе с тем именно этой поэмой, оцененной Белинским, ознаменовалось окрыляющее пробуждение в нем творческого самосознания: «Молодой автор, в деревне, о нем появилась первая хвалебная статья… Как ясно можно представить себе Тургенева, разрезающего страницы Белинского! Волновался, то прятал, то клал книжку на видное место. Делал вид, что ему все равно, а в действительности трепетал. Приезжали соседи, смотрели, ахали… Чудесное время. Май, Спасское, молодость… Быстро июнь пролетит. И к Петрову дню закатится Иван Сергеевич Тургенев, полный ощущения таланта своего, успеха своего, куда-нибудь за утками и дупелями…»
История любви к П.Виардо оказывается в книге Зайцева одной из центральных сюжетных линий, высветляющих черты человеческой и творческой индивидуальности писателя. С 40-х гг. «он ею заболел», обращал к ней письма, представляющие «некий преданный дневник, направляемый к “прекрасной даме”», и в то же время, «аплодируя Виардо в театре, рассказывая о ней и восторгаясь ею по знакомым», ездя за ней по Европе, «жил он и подземной жизнью художника… разными своими слоями», работал над повестями и рассказами «Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретер», «Жид», «Петушков» и др., где из выстраданного биографического опыта прорастала тема «страшной силы женщины и невозможности освободиться». Все более весомой в мирочувствии Тургенева становится антиномия «там» и «здесь»: в пору жизни в Европе выходят из-под пера укорененные в национальной стихии «Записки охотника» («из отдаления лучше он ощутил родину и посозерцал ее»); в коллизиях текущей действительности он распознает участие мистических сил, «беспредельность миров», «иногда странные испытывает чувства – возводящие к позднейшим, таинственным его произведениям», наподобие рассказа «Сон». Как напишет Зайцев в очерке «Тургенев после смерти» (1932), с исторической дистанции все очевиднее, что «Тургенев – поэт, эротик и мистик заслонил Тургенева либерала и разрывателя цепей». Антиномия «там» и «здесь» проявилась и в отталкивании художника от стихии революционного насилия во Франции 1848 г., в чем автору книги увиделось символическое предвосхищение грядущего через несколько десятилетий русского бунта: «Париж кипел и волновался. Тургенев одиноко бродил в лесах под Парижем… Кто из переживших грозные годы в деревне русской не помнит этого ощущения в вечереющих полях, при высоких, пурпурно-зыблящихся, затянувших небо мелко-волнистой скатертью облачках: безмерность, вечная тишина природы… а «там» – История, Война, Революция».
Биографическое повествование о художнике разворачивается у Зайцева в меняющихся ракурсах, высвечивающих всё новые лики артистической натуры. Тургенев 1850 года изображен отчасти глазами Виардо («Он – неясно-поэтический туман, вздох, томление, петраркизм»), но одновременно и как «почти зрелый» человек, «познавший искусство, познавший любовь; видевший вблизи движения и падения обществ, знавший уже не романтическую тоску юноши, а спокойную печаль взрослого». Спустя несколько лет, в период жизни в России, «голова его стала почти седая – ранняя седина, тридцатипятилетняя, но глаза живые, фигура могучая». В его произведениях отозвались, по мысли Зайцева, напряженные, подчас доходящие до безысходного трагизма ритмы личной и общественной жизни. Это уединенные, приближавшие «сквозь все тургеневское западничество» к национальной почве «охотничьи скитания», из которых «рождались “Поездка в Полесье”, “Постоялый двор”, “Затишье”…»; выросший из ранних интеллектуальных исканий «Рудин», из которого произойдут в литературе многие «лишние люди», «все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи»; это и содержащие опосредованное преломление любовной драмы, «рожденные важными душевными событиями» повести «Ася» и «Вешние воды»; это роман «Дворянское гнездо», «чудесно проникнутый старой Россией» и впоследствии привлекший внимание Зайцева тем, как «удалось Тургеневу написать изнутри[7] Лизу… Это тайна художества и тайна души» («Перечитывая Тургенева», 1957). В романе же «Отцы и дети», где, как и в «Накануне», «клубилась, кипела современность», произошло отвлечение от «истинно-тургеневской стихии», наметилось скорое размежевание художника с литературными кругами и историческим временем: «Освобождавшуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом».
Примечательны у Зайцева парные портреты, запечатлевающие главного героя в сфере как личных привязанностей к Виардо, дочери, так и творческих пристрастий. Через его проницательное восприятие набрасываются штрихи к портрету Гоголя («Свежего воздуха, красоты, чувства женственного – вот чего никогда не было у этого поразительного человека»). В контрастном соотнесении с Тургеневым воспринимаются индивидуальности Л.Толстого, Некрасова, Фета. В отличие от Толстого, «Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор… Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества… Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедывал, и не особенно моралью интересовался». В противовес Некрасову «Тургенев навсегда остался художником-барином. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева – тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе». «Поэтическо-охотницким», овеянным дыханием деревенской России увиден его «союз» с Фетом, когда последний «читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные баре и художники».
В концепции Зайцева изначальная удаленность Тургенева от религиозного миропонимания, то обстоятельство, что он «себя христианином не считал», «не был верующим и скорбел об этом», хотя «христианскими… качествами души и высокими тяготениями обладал», приводили в некоторой степени к «нечувствию глубины России… ее религии», к тому, что даже «художество» он по преимуществу «чувствовал физически»… В последние же десятилетия желание уйти от общественного шума, накопление «горького опыта» от текущей действительности, ощущение «отставания» от эпохи, выразившиеся в «Дыме» и «Нови», усиливали желание «тронуть таинственное», обостряли переживание разрыва между этим миром, который «точит, мельчит, разжигает тщеславие», – и вечными силами любви, природы, смерти, открывающимися «пред зрелищем последней тайны».
В таких поздних произведениях, как «Призраки», «Довольно», «Фауст», «Часы», «Сон», «Рассказ о. Алексея», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви» и др., Зайцев усматривает неуклонное самоисчерпание «Тургенева дневного, общественного», все глубже погружающегося в бесприютность и одиночество («Некуда было преклонить голову, некому излиться. Не от кого ждать помощи»), и вместе с тем возрастание в нем подлинно трагедийного мистического «чувства присутствия иного мира», «отчаяния страсти», завороженности ее «магнетизирующей силой, колдовством».
Сквозь тихое, «закатное» течение жизни в Буживале, где «он полулежит – громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом», сквозь трогательное «прощание с Россией» у памятника Пушкину и посещение родного Спасского, где «последние вдыхал благоухания», в его итоговых вещах проступает «всегдашнее тургеневское – неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного». Предчувствия и озарения художника искусно переданы на пересечении раздумий биографа, переживаний самого писателя («Что думал, что чувствовал, когда коляска везла его среди полей с крестцами овса на вокзал во Мценск: видел он эти крестцы в последний раз») и неведомого промышления высших сил о его пути: «Тайные силы, грозные и недобрые, может быть, и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой (в неравной борьбе) прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели — приковали к “краюшку чужого гнезда”?»
Биографическое повествование Б.Зайцева о Тургеневе стало опытом плодотворного совмещения документальной основы с интуициями о природе искусства, о сверхличных силах, направляющих судьбу художника и воздействующих на его эволюцию и образный мир. В лейтмотивах этого жизнеописания, калейдоскопе портретных зарисовок, в смене ракурсов изображения Тургенев высветился как художник антиномического склада: «российский посол» в европейской культурной среде; западник, проникший в загадки русской души и парадоксы национальной жизни; увлеченный аналитик хитросплетений общественной борьбы, тяжело переживший «удаление» от современности; мудрый созерцатель и одновременно пленник любовной страсти; «человек глубоко светский», приоткрывший в своих произведениях тайны мистического чувства.
Автор: Священник Илия Ничипоров
[1] Яркова А.В. Жанровое своеобразие творчества Б.К.Зайцева 1922 – 1972 годов. Литературно-критические и художественно-документальные жанры. Монография. СПб., ЛГОУ им. А.С.Пушкина, 2002. С.62.
[2] Там же.
[3] Ничипоров И.Б. Личность художника и тайна творчества в книге Б.Зайцева «Чехов» // Русская литература XX – XXI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения): Материалы IV Международной научной конференции (Москва, филологический факультет МГУ, 4 – 5 декабря 2014 года. М., МГУ, 2014. С.106 – 110 (Электронный доступ: https://istina.msu.ru/publications/article/7765497/ ).
[4] Степун Ф. Борису Константиновичу Зайцеву – к его восьмидесятилетию // Зайцев Б.К. Собрание сочинений в пяти томах. М., Русская книга, 1999. Т.5 (http://ruslit.traumlibrary.net/book/zaitsev-ss05-05/zaitsev-ss05-05.html#work007001 ).
[5] Степун Ф. Указ. соч.
[6] Тексты «Жизни Тургенева» и иных произведений Б.Зайцева приводятся по изданию: Зайцев Б.К. Собрание сочинений в пяти томах. М., Русская книга, 1999. Т.5 (http://ruslit.traumlibrary.net/book/zaitsev-ss05-05/zaitsev-ss05-05.html#work007001 ).
[7] Выделено Б.Зайцевым.