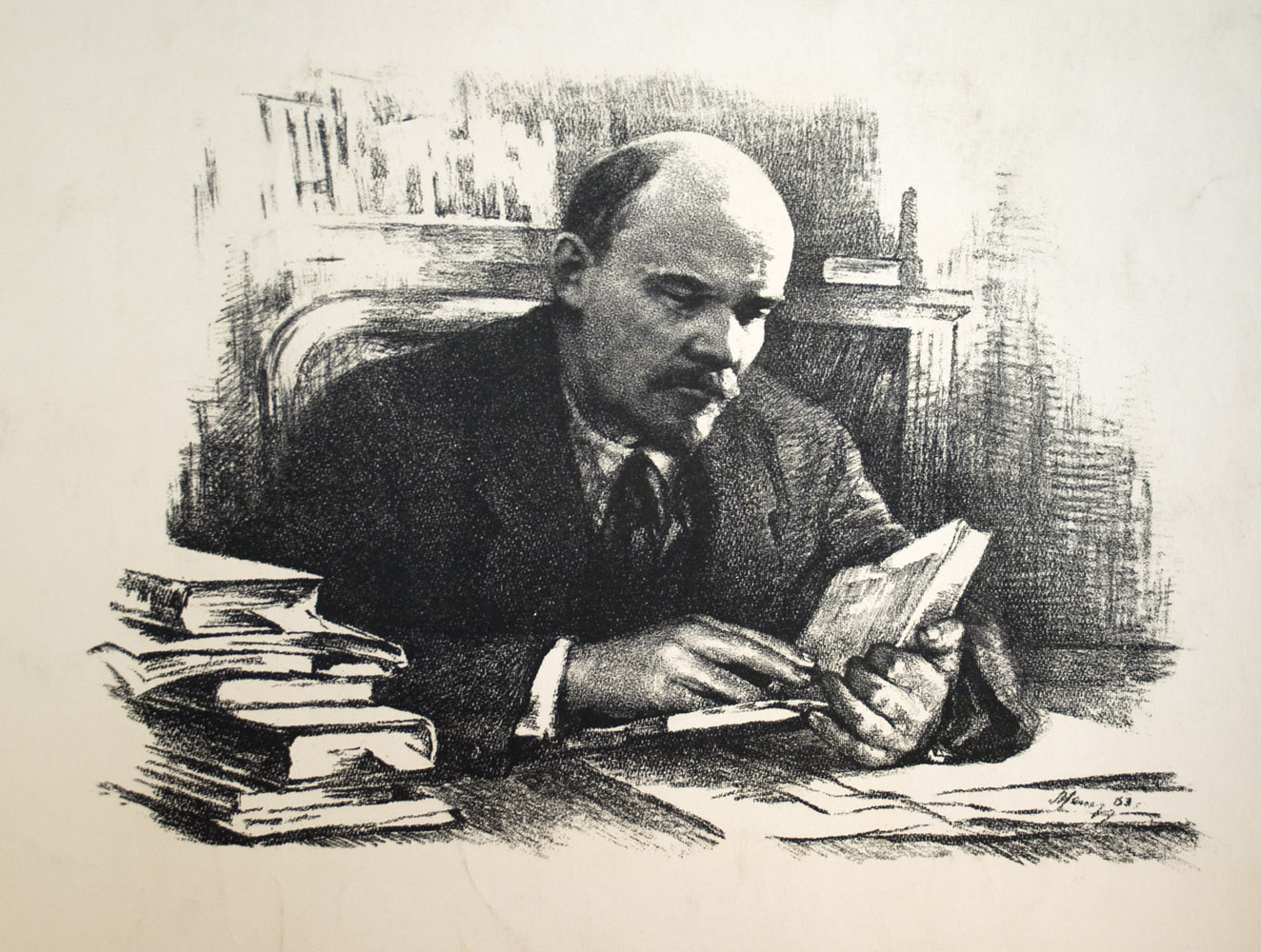
Обширная литературная лениниана стала не только идеологическим, но и подчас самобытным художественным явлением, в развитии которого обнаруживаются связи исторических и культурных эпох, а также мифопорождающие интенции образного мышления.
Одна из магистральных линий эволюции ленинианы проходит от поэзии В.Маяковского к творческой практике «шестидесятников», с их «надеждами на обновление путем восстановления мифических “ленинских норм”»[1] и осознанной ориентацией на Маяковского, желанием, как отмечали исследователи, «извлечь из наследия этого официально мумифицированного и разобранного на лозунги “государственного поэта” то, что оказалось в высшей степени созвучно их собственному мировосприятию – его гражданственность, ту гражданственность, которая личному придает значения общего, а общее переживает как личное»[2]. Художественный миф о Ленине получил особенно яркое воплощение в лирике А.Вознесенского и его поэме «Лонжюмо» (1962 – 1963).
Краеугольным камнем поэтической мифологии о Ленине явилась поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924) – исповедальный и религиозный текст, основанный, как и позднейший «Разговор с товарищем Лениным» (1929), на мистическом вчувствовании в «сверхчеловеческую» сущность вождя.
Эволюция человекобожеской концепции в поэмах Маяковского сопряжена с подвижным соотношением антропологического, космологического и историософского планов в религиозных интуициях поэта. Миф о себе как «тринадцатом апостоле», «новом» Ное и «новом» Христе, приносящем «искупительную» жертву ради революционного преображения масс в «Облаке в штанах», позднее, в поэме «Человек», вырастает в масштабную, основанную на трансформации евангельских образов религиозно-антропологическую концепцию. В 10-е гг. эти антропологические прозрения предстают у Маяковского в интерьере историософских, космологических идей, окрашенных в апокалиптические тона и ведущих к поиску осуществления человекобожеского демиургического акта. А в поэмах 20-х гг. религиозное переживание все более явственно переводится из индивидуально-личностной сферы в область массового сознания («150 000 000»), а миф о явлении нового Искупителя приобретает эпический размах, входит в контекст вождистской утопии в поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!».
В творческом сознании Маяковского, как впоследствии у Вознесенского, на миф о земном вожде переносится библейский сюжет Боговоплощения. В поэме Маяковского «короткой… жизни Ульянова» противопоставляется «долгая жизнь товарища Ленина»[3], а потому исходное устремление лирического героя («Я себя под Лениным чищу…») знаменует движение навстречу вечности, вхождение в сферу действия неисчерпаемой энергии того, кто «живее всех живых». В образе вождя распознается соединение земной природы («хороним самого земного…») и метафизической силы, возносящей его над историческим временем и пространством: «Землю // всю // охватывая разом, // видел // то, // что временем закрыто». Переиначивая ветхозаветные мессианские пророчества, поэт прослеживает вехи «доленинской» истории и вслушивается, как «годов за двести // первые про Ленина доходят вести». Мессианско-вождистские предчувствия, распространившиеся от Европы, на пространствах которой «коммунизма призрак… рыскал», до «глуши Симбирска», «где родился обыкновенный мальчик Ленин», – оказываются лишь отчасти мотивированными социально-политическими обстоятельствами, а главным образом движимы «человекобожескими» порывами «восстающих масс». Внедоктринальный, эпохальный характер ленинизма подтверждается здесь его массовым сверхчувственным усвоением: «Они не читали // и не слышали Ленина, // но это // были ленинцы».
Центральным сюжетом поэмы Маяковского становится синергия мощи главного героя, с его медиумическими способностями («Он в черепе сотней губерний ворочал»), и стихийных, изначально хаотических общественных сил, которые восполняли собой ограниченность земной природы вождя, со свойственными этой природе колебаниями («дрожа, волнуясь над кипами газет»), и сами в свою очередь обновлялись под его решающим влиянием:
Бился
об Ленина
темный класс,
тек
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.
Мифотворческой подменой основанной Богочеловеком Христом новозаветной Церкви – Тела Христова (1 Кор. 12: 12 – 14, 27) – выступает в поэме Маяковского партия как образ обновленного человеческого рода – прежде «темного», а теперь «очищенного» вождистской силой. Смерть вождя наделяется в произведении «искупительным» значением, описывается посредством причудливого смешения формул советских газет («Стала величайшим коммунистом-организатором // даже сама Ильичева смерть») и церковно-литургических ассоциаций: «Сильнее // и чище // нельзя причаститься // великому чувству // по имени – // класс!» Плодами сращения «Партии и Ленина – // близнецов-братьев» в создаваемой Маяковским мифологической модели мыслятся будущее превозмогание смерти в «бессмертии нашего дела», прорыв за пределы автономного существования, ибо отныне «каждый камень Ленина знает», «в каждом – Ильич», а путь «найдешь по крови из ран Ильича».
В поэтической лениниане Вознесенского, центром которой стала поэма «Лонжюмо», проявилось характерное для художественного сознания середины века сопряжение мира политики, искусства с новейшими техническими открытиями, с утопическими чаяниями превозмочь ограниченность земного естества. Не раз апеллируя к поэтической образности и личности Маяковского в стихотворениях «Маяковский в Париже», «Разговор с эпиграфом», Вознесенский в поэме «Лонжюмо» придает мифу о Ленине космологический колорит и, начиная с «Авиавступления», встраивает размышления о вожде революции в контекст обращений к Земле, времени, России: «Планета – // как Ленин, // мудра и лобаста»[4].
Мозаика бытовых эпизодов («Пилы кружатся. Пышут пильщики… Ленин // режется // в городки!») насыщается в поэме Вознесенского символическим смыслом (Ленин «из породы распиливающих, // обнажающих суть вещей»), заключает в себе предызображение глобального переустройства мира. Азарт ленинской игры «в городки» оказывается единоприродным как энергии революции («Революция играла // озорно и широко!»), так и стихиям грядущих потрясений: «Так играл, // что шарахались рейхстаги // в 45-м наповал!»
Как и в поэме Маяковского, миф о Ленине строится Вознесенским на иллюзии сверхчувственного проникновения в «его» мысли, впечатления, ассоциации, на сопричастности авторского воображения затеянной «героем» игре с мирозданием:
…и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговок, машин, корзин,
на прозрачном велосипедике
проскользил…
«Через ленинское стекло» высвечиваются условность пространственных пределов, мнимость его эмиграции («Всю Россию, // речную, горячую, // он носил в себе, как талант!»), его визионерство: «Он // отсюда // мыслил // ракетно… Проступало ему Революции // окровавленное // лицо». Развивая идущее от Маяковского мифопоэтическое соотнесение и противопоставление Ульянова и Ленина, человека и вождя, Вознесенский в стихотворении «Я в Шушенском» (1962), более радикальным образом прорисовывает в Ленине, «вселившемся» в Ульянова и вступающем с ним в диалог, трансцедентную сущность земного лидерства:
Он – дух народа.
В этом смысле
Был Лениным – Андрей Рублев.
Как по архангелам келейным,
порхал огонь неукрощён.
И, может, на секунду Лениным
Был Лермонтов и Пугачев.
Но вот в стране узкоколейной,
шугнув испуганную шваль,
В Ульянова вселился Ленин,
Так что пиджак трещал по швам!
Он диктовал его декреты.
Ульянов был его техредом.
<…>
И часто от бессонных планов,
упав лицом на кулаки,
Устало говорил Ульянов:
"Мне трудно, Ленин. Помоги!"
Характерное для Вознесенского пристрастие к «ракетной» метафорике, формирующей особый язык для выражения человекобожеской утопии эпохи НТР (вспомним стихотворения «Параболическая баллада», «Ночной аэропорт в Нью-Йорке» и др.), преломляется в поэме «Лонжюмо» в повышенном «техницизме», телесности образного ряда, которые в то же время просквожены мощным мистическим чувством.
По сравнению с Маяковским, Вознесенский значительно усиливает интуицию о том, как ленинский вождизм не только перекраивал социальное устройство мира, но и превозмогал неумолимые законы существования материи. В него, «как когда-то в Пушкина», «бил отравленный пистолет», он «сам // как аккумулятор, // заряжался от масс», он был «прост – как материя, // как материя – // сложен», а теперь в Мавзолее «солнечно и страстно // прозрачное чело горит лампообразно», и «Ленин, как рентген, просвечивает нас».
Парадоксальным образом поэзия Вознесенского, рожденная и вдохновленная эпохой антисталинских разоблачений, явилась почвой для взращивания нового мифа о земном вождизме как источнике вселенской, надысторической энергии, упраздняющей дуализм духа и материи. В эпилоге к «Лонжюмо» этот связанный с деятельностью Ленина полузабытый французский городок увиден в образе «туманной Атлантиды», «школе Ленина… планета теперь тесна», а «материя» начатой им борьбы растворена «в крови у времени», и даже поэма о Ленине, продолжающая свою жизнь уже за пределами авторской воли, становится моделью новой Земли:
…свистят по поэме
любимые им снегири —
несется Земля —
продолженье поэмы.
Поэма летит —
продолженье Земли.
Таким образом, «ленинские» поэтические тексты В.Маяковского и А.Вознесенского, противоречиво сочетающие лозунговую декларативность и авангардные образные решения, запечатлели эволюцию художественного выражения человекобожеской концепции[5]: от революционного «переписывания» Библейской истории, утверждения мессианского смысла вождизма и партийного строительства до «ракетных», «технократических» прозрений об «открытой» вождем «новой» материи, о его «победе» над исторической необходимостью и властью пространства и времени.
[1] Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Лирический «бум» и поэзия «шестидесятников» // Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн. 1: Литература «Оттепели» (1953 – 1968): Учебное пособие. М., Эдиториал УРСС, 2001. С.89.
[2] Там же. С.81.
[3] Текст поэмы приводится по изданию: Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. Т. II / Сост. Ал.Михайлова; прим. А.Ушакова. М., Правда, 1988.
[4] Тексты произведений А.Вознесенского приведены по: http://ruthenia.ru/60s/voznes/antimir/index.htm; http://rupoem.ru/voznesenskij/all.aspx.
[5] Ничипоров И.Б. Эволюция «человекобожеской» концепции в поэмах В.Маяковского // Текст в художественной литературе, публицистике и журналистике : Материалы XIX Шешуковских чтений / Под ред. Л.А.Трубиной. М., МПГУ, 2014. С. 172 – 181.