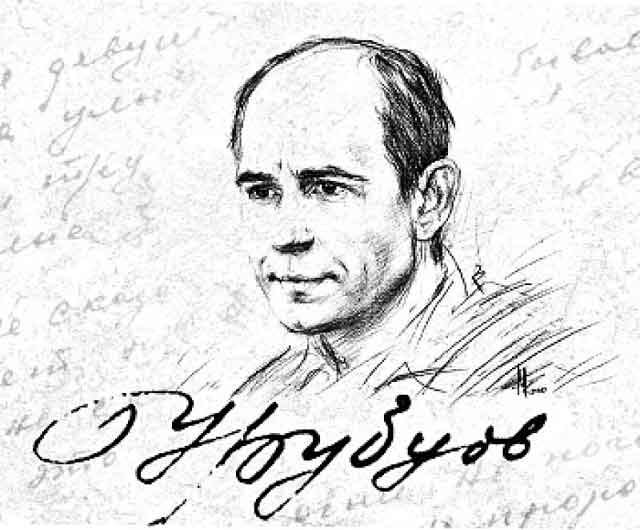
В воспоминаниях о Н.Рубцове нередко в разных вариациях звучали раздумья о внутреннем «странничестве», которое было присуще его творческой натуре: «Рубцов любил внезапность знакомств и расставания. Он возникал в местах, где его не ждали, и срывался с мест, где в нем нуждались. Вот эта противоречивость скитальческой души и носила его, вела по Руси»[1]. Скитальческие переживания художественно выразились в сквозных для его лирики образах путевого пространства, семантически многоплановых дорожных мотивах, создающих особый ракурс поэтического мировидения.
В ранних поэтических опытах 1950-х гг. («Два пути», «Да, умру я!», «Уж сколько лет слоняюсь по планете!..» и др.) дорожные мотивы ассоциируются с неоромантическими устремлениями лирического «я», вызывают противопоставление тракта, истоптанного «на телегах, в седлах и пешком», – и узкой лесной тропы, манящей к себе героя, уводящей «в сторону далеко» и приближающей к чудесному измерению бытия: «Хоть на ней бывает одиноко, // Но порой влечет меня туда»[2]. Собственная стезя на «заплеванном шаре земном» подчас увидена в трагическом свете, в виде нещадно затаптываемого пути («Жалкий след мой // будет затоптан // башмаками других бродяг»), и в то же время для лирического героя-скитальца прорисованные в зримых поэтических образах земные дороги размыкаются в таинственную, «мерцающую» перспективу («… может быть, навеки // Людный тракт окутается мглой»), знаменуют встречу со стихийными силами души и природы, с «бездомным ветром», «шляющимся над землей»:
И путь укрыт от взора моего,
Иду, бреду туманами седыми;
Не знаю сам, куда и для чего?
<…>
… Бродить и петь про тонкую рябину,
Чтоб голос мой услышала она:
Ты не одна томишься на чужбине
И одинокой быть обречена!..
В «дорожных» отражениях проступают у Рубцова автобиографические, исповедальные мотивы. В отрывистых, ритмически надрывных строках стихотворения «Детство» (1967) пунктирно выведенная лирическая автобиография предстает в интерьере «пограничных» пространств, обрамлена многими нежеланными отъездами, переездами, паромными переправами. Оскудение осиротевшего домашнего мира («Взялись в жилье // И сумерки, и сырость…»), подмененного «детдомом на берегу», образно ассоциируется с общенародной бедой, «военной морокой» и перерастает в трагедийную картину преисполненного разлуками существования:
Еще прошло
Немного быстрых лет,
И стало грустно вновь:
Мы уезжали!
Тогда нас всей
Деревней провожали,
Туман покрыл
Разлуки нашей след…
«Дорожное» мирочувствие входит у Рубцова и в контекст интимной лирики. В стихотворении «Листвой пропащей…» песенно звучащий лейтмотив («Листвой пропащей, // знобящей мглою // Заносит буря неясный путь») ассоциируется с драмой самозабвенного бегства от томительной душевной неустроенности, с долгожданным обретением дорогого воспоминания и, как следствие, озарением, казалось, безвозвратно погрузившегося во мрак пути: «И вдруг я вспомню твое лицо, // Игру заката во мгле вечерней, // В лучах заката твое кольцо». А в «Прощальной песне» (1966) лирический сюжет неминуемого для героя ухода из обжитого деревенского пространства, его «измена» семейным привязанностям раскрываются в пронзительном обращении к близкой душе, в парадоксальном сочетании предчувствия будущего расставания и воспоминаний о разрыве, уже совершившемся. Ночные тропы, пароходы, «знобящие причалы» оборачиваются для лирического «я» не только странствиями во внешнем мире, но и блужданиями в лабиринтах собственной души:
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду.
Сквозной в поэтическом мире Рубцова сюжет скитаний, основанный на исповедальном самораскрытии героя, достигает сверхличностного масштаба, вступает во взаимодействие с фольклорными мотивами и порождает оригинальные формы «ролевой» лирики. Стихотворения «Подорожники», «Дорожная элегия», образный мир которых щедро расцвечен фольклорным колоритом («Пролегла дороженька до Устюга // Через город Тотьму и леса…»), примечательны множественностью субъектов лирического переживания. Это и одушевляемые подорожники – молчаливые и вдумчивые свидетели человеческих драм, и «бродяги и острожники», доверившие дорогам свои плач и смех, и, наконец, сам лирический герой, для которого «дорожная мука», родные северные ландшафты служат как вместилищем душевной боли, «острожного» одиночества, так и целительным приобщением к метафизическому измерению, коллективному переживанию, укорененному в недрах прапамяти: «Разве что от кустика до кустика // По следам давно усопших душ // Я пойду, чтоб думами до Устюга // Погружаться в сказочную глушь».
Эволюция «дорожной» темы связана у Рубцова с ее эпическим расширением, открытием горизонта бытийных обобщений. В стихотворении «Идет процессия» в центр бытовой зарисовки деревенских похорон выступает образ скорбной «дороги в полверсты», являющей единство микро- и макрокосма и таинственно вмещающей многоразличные «ласки мира» и «бури века». Коллизии «дорожного» сюжета стихотворения «Неизвестный» высвечивают драму бесприютной судьбы героя, что «шел против снега во мраке», был ославлен людской молвой («Бродяга. Наверное, вор…»), и приобретают экзистенциальный смысл: «Он шел. Но угрюмо и грозно // Белели снега впереди! // Он вышел на берег морозной, // Безжизненной, страшной реки!»
Дорожные мотивы пронизывают пейзажную образность лирики Рубцова, подчас придавая ей «драматургическую» динамику. В стихотворении «По дороге из дома» одушевленная стихия ветра («О ветер, ветер! Как стонет в уши! // Как выражает живую душу!») вступает в диалогическое соприкосновение с лирическим «я», выражает его дерзновенный «дорожный» дух, прорыв за грань привычного домашнего мира: «Безжизнен, скучен и ровен путь. // Но стонет ветер! Не отдохнуть…» В дорожных пейзажных зарисовках достигается пересечение звездных, природно-космических – и земных, рукотворных путей («В тусклом свете блестя, гололедица // Предо мной обозначила путь…», «Гололедица», 1969). Эмпирическая картина житейских перепутий, исповедь утомленной души, которая «давно… блуждать устала», преломляются в сфере творческого воображения лирического «я», в «дорожном» ракурсе его мировидения («И путь без солнца, путь без веры // Гонимых снегом журавлей…»), сопрягающем явленное и сокровенное, время и вечность, родное и вселенское[3]: «Как будто вечен час прощальный, // Как будто время ни при чем…» («В минуты музыки», 1966).
Страннические переживания лирического «я» и иных героев оказывают у Рубцова решающее воздействие на эмоциональный фон, интонационные рисунки его поэзии. Стихотворение «Поезд» (1969) построено на развернутой метафоре безудержно – «с грохотом и воем… с лязганьем и свистом», «с полным напряженьем // Мощных сил, уму непостижимых» – мчащихся человеческой жизни и истории. В мифопоэтической образности произведения стихия дороги приобретает сказочные черты, высветляя в лирическом «я» непознанные им самим глубины («На разъезде где-то, у сарая, // Подхватил меня, понес меня, как леший!.. // Я, как есть, загадка мирозданья»), приводя к отчаянному прозрению зыбкой грани между стремительно меняющейся жизнью и небытием, что лишь в малой степени смягчается робкой надеждой, сквозящей в безответном финальном вопрошании:
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!..»
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?
Восприятие мироздания в пространстве бесконечных «древних дорог», проложенных и в «пыли веков», и в тайных недрах человеческой души, обуславливает расширение масштаба лирического переживания. В стихотворении «Старая дорога» (1966) «голубые вечности глаза», облака-«пилигримы», плывущие, «как мысли», приоткрывают тайны небесного мира и в то же время вступают в соприкосновение с душой, чуткой к путевому измерению бытия и истории:
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит…
Дорожные мотивы, неотделимые в поэзии Рубцова от исповедального самовыражения, настраивают и на постижение многовековых путей истории и культуры. В стихотворении «Шумит Катунь» (1967) лирическое чувство сливается в гармоничную мелодию с немолчным «напевом былинным» древней сибирской реки («Как я подолгу слушал этот шум…»), вследствие чего «долгота» индивидуального эстетическогопереживания оказывается равновеликой «темному зеву» столетий, непрерывному течению земной истории навстречу вечности:
Катунь, Катунь – свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, –
Они топтали эти берега!
И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень…
Атмосферой скитальчества, которой проникнут поэтический мир Рубцова, насыщены интуиции о перепутьях родной культуры – как в стихотворении «Я люблю судьбу свою…» (1970), где трагедийный путь лирического «я» («Над мною смерть нависнет, – // Голова, как спелый плод, // Отлетит от веток жизни»), судьбы поэтов прошлого увидены в пространстве онтологической бесприютности:
Вон Есенин –
на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру
Скромно Хлебников шаманит.
Поэтическое вживание в далекие исторические эпохи сопряжено у Рубцова с ролевыми перевоплощениями лирического героя. В притчевом стихотворении «Русский огонек» (1965) он выступает в образе одинокого странника, затерянного «в бескрайнем мертвом поле», но обретающего утраченный путь в общении с хозяйкой избы, а через нее – со многими незнакомыми прежде, но близкими душами, чьи судьбы запечатлелись в «сиротском смысле семейных фотографий». Косвенная ретроспекция жизни рассказчицы воскрешает личную и историческую память, становится противовесом блужданию личности и целых поколений «в поле бездорожном». Тайновидцем, всадником, скачущим «по холмам задремавшей отчизны… по следам миновавших времен», предстает лирическое «я» в стихотворении «Я буду скакать…» (1963), где категория пути выходит на онтологический уровень, ассоциируется с путешествием в пространстве и времени, на грани яви и сновидческой реальности, предпринимаемым ради того, чтобы в тайновидении ощутить себя на перекрестке многих родственных судеб:
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.
И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей…
Итак, дорожные мотивы составляют один из смысловых центров поэтического мира Рубцова. Развиваясь на почве традиционной неоромантической образности, эти мотивы наполняются автобиографическими ассоциациями, обнаруживают свою значимость в интимно-исповедальной, пейзажной, «ролевой» лирике, дорастают до уровня эпических обобщений и представляют художественную картину мира в меняющихся ракурсах, в призме беспокойно-страннического лирического чувства.
[1] Романов А. Искры памяти // Рубцов Н.М. Стихотворения, письма, воспоминания современников. М, Изд-во Эксмо, 2002. С.304.
[2] Здесь и далее тексты Н.Рубцова приведены по изданию: Рубцов Н.М. Стихотворения, письма, воспоминания современников. М, Изд-во Эксмо, 2002.
[3] Ничипоров И.Б. «Русский огонек». Родное и вселенское в поэтическом мире Н.Рубцова // Духовные начала русской словесности. Материалы VI Междунар. науч. конф. «Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения»). Великий Новгород, НовГУ, 2006. Вып.2. С.180 – 186 (Электронный доступ: http://portal-slovo.ru/philology/37233.php).